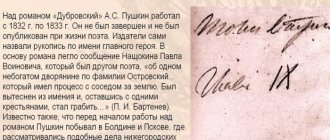79
ИСПОВЕДЬ ФИННА В ПОЭМЕ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
Исследователи, изучавшие литературные и фольклорные истоки «Руслана и Людмилы», не успели еще достаточно убедительно объяснить ту часть поэмы (песнь первая), в которой вещий старец Финн рассказывает Руслану историю своей жизни. П. А. Плетнев, автор статьи о финляндской теме в русской поэзии, писал Я. К. Гроту (24 февраля 1841 г.): «Конечно, это не описание Финляндии, не предание народное, не мнение ученое: это блажь, забава юношеского воображения, но заимствованная
80
из темных, стародавних рассказов…». Плетнев не уточнил, чьи это рассказы. М. Халанский предположил, что «встреча Руслана с добродетельным волшебником, старцем Финном, живущим в пещере, ближе всего напоминает встречу Алеши Поповича с старцем волшебником, выведенным Н. Радищевым в его поэме „Альоша Попович“ песнь 2-я (изд. 1801, стр. 44—49)…». Но пещера — обязательный атрибут оссианического пейзажа, а в указанной поэме Н. Радищева отсутствуют сюжетные и фразеологические соответствия рассказу Финна. В. Сиповский признавался: «До сих пор мне не удалось найти в предшествующей Пушкину литературе, русской и иностранной, ничего похожего на эпизод Финна и Наины, — между тем, заимствованность этой вставной повестушки сразу чувствуется».
Установлено, что исповедь Финна содержит отголоски «Песни Гаральда Смелого» — средневековой исландской скальдической поэмы, помещенной (во французском переводе) в книге Поля-Анри Малле «Памятники поэзии и мифологии кельтов, в частности древних скандинавов». Указано на композиционный элемент, общий для «Песни Гаральда» и для исповеди Финна. Каждый куплет скальдической поэмы «кончается припевом:
Дева, живущая в Гарде, Золотыми украшенная кольцами, отвергает меня.
Припев — эта внешняя связь с «Песней Гаральда» — легко здесь (в «Руслане и Людмиле», — Д. Ш
.) бросается в глаза. Его Пушкин вложил в уста Наины:
Пастух, я не люблю тебя, Герой, я не люблю тебя».
«Песнь Гаральда Смелого» переводили Н. Львов и Богданович, Карамзин и Батюшков. Поэтому высказывалось мнение, что «вскоре после Карамзина и Батюшкова, под свежим впечатлением их переводов, и Пушкин отметил песню Гаральда своим вниманием в „Руслане и Людмиле“. <…> Он слегка пародировал ее в повествовании Финна о его славных подвигах и любовной неудаче. <…> Автобиография Финна соответствует автобиографии Гаральда, а в ее поэтическом изложении у Пушкина отзывается и язык карамзинской прозы и отдельные блестки поэтического перевода Батюшкова». Карамзин и Батюшков для Пушкина, автора «Руслана и Людмилы», значили много, но связь между древнескандинавской балладой и оссианическим по стилю рассказом вещего старца не слишком велика.
81
На вопрос о литературном источнике исповеди Финна дополнительный свет проливает публикация наброска ранее неизвестной поэмы К. Ф. Рылеева «из скандинавского быта о витязе Ольбровне и красавице Русле». Набросок этот, выполненный после появления в свет «Руслана и Людмилы», представляет собой, по словам Ю. Г. Оксмана, «явную имитацию характерных деталей стиля и композиции юношеской поэмы Пушкина»; более того: «первые шестнадцать строк этого отрывка Рылеева вызывают в памяти рассказ Финна о его борьбе за Наину в первой песне „Руслана и Людмилы“».
Рылеев:
На дальних берегах чужбины Он девять месяцев разил Иноплеменные дружины И их зеленые равнины Невинной кровию багрил. Непостоянство бурной влаги, Пучины грозные морей, Не охлаждали в нем отваги. Владыки чуждые пиры В нагорных замках нам давали, Несли с покорностью дары, Свои услуги предлагали И, трепеща постыдных уз, Постыдной данью покупали И дружбу нашу, и союз.
Пушкин:
Мы десять лет снега и волны Багрили кровию врагов. Молва неслась: цари чужбины Страшились дерзости моей, Их горделивые дружины Бежали северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, Делили дани и дары И с побежденными садились За дружелюбные пиры.
Далее различия между поэтическими текстами Пушкина и Рылеева весьма существенны. Пушкин лаконичен, Рылеев многословен. Текст Рылеева по сравнению с пушкинским наполнен большим количеством подробностей, опущенных Пушкиным. Но, как отметил Ю. Г. Оксман, «и в тематическом, и в ритмико-метрическом, и в лексико-фразеологическом отношении эти наброски еще не выходят за пределы ученических вариаций, сделанных как бы на полях „Руслана и Людмилы»». Зачин повести о Русле и Ольбровне напоминает начало исповеди Финна.
Рылеев:
Однажды под костром дубовым, На почерневшем сидя пне, Вечерних сумраков порою, Задумчиво склонясь главою, «О царь певцов! — сказал он мне, — Почто столь долгое молчанье? Почто, почто в очарованье
82
Ты не приводишь, скальд младой, Души тоскующего друга И в повести своей живой Преданий древности седой Нам не расскажешь в час досуга? Отчизны милая страна Ольбровна именем полна, Но кто он был — Иснель не знает…
Пушкин:
Руслан на мягкий мох ложится Пред умирающим огнем; Он ищет позабыться сном, Вздыхает, медленно вертится… Напрасно! Витязь наконец: «Не спится что-то, мой отец! Что делать: болен я душою, И сон не В сон, как тошно жить. Позволь мне сердце освежить Твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся: кто ты, благодатный, Судьбы наперсник непонятный? В пустыню кто тебя занес?»
Пушкинский Финн повествует о себе, а рылеевский «царь певцов» — о витязе Ольбровне. И все-таки оба поэта в сходных выражениях и одинаковой последовательности говорят о похожей судьбе их героев. И Ольбровн, и Финн, юные пастухи, счастливо предавались невинным забавам «дикой бедности»; и Рылеев, и Пушкин с элегической грустью вспоминают об этой чудесной поре в жизни их героев.
Рылеев:
Под камнем (сим) — был мой ответ! — Сей храбрый витязь почивает С подругой нежной юных лет! Дубравы Скании дремучи Гремели дел его молвой: Вскипев отважною душой, Пятнадцать раз Ольбровн могучий Медведей лютых низлагал Своею сильною рукою И их свирепство укрощал Перед трепещущей толпою. Пятнадцать раз его стрела Паренье дерзкого орла Внезапно с жизнью пресекала И от туманных облаков При кликах радостных стрелков На дол зеленый повергала.
Пушкин:
Вздохнув с улыбкою печальной, Старик в ответ: «Любезный сын, Уж я забыл отчизны дальной Угрюмый край. Природный финн, В долинах, нам одним известных, Гоняя стадо сел окрестных, В беспечной юности я знал Одни дремучие дубравы, Ручьи, пещеры наших скал Да дикой бедности забавы…
83
Здесь идиллия безмятежной юности прерывается. И Ольбровн, и Финн познают сладкие, но жестокие муки первой любви. Они встречают своих возлюбленных, соответственно Руслу и Наину, каковые призваны сыграть роковую роль в их судьбе. Оба они, и Ольбровн и Финн, пытаются добиться любви прекрасных девушек.
Рылеев:
Однажды с Руслою прекрасной Он встретился в лесной глуши; Взглянул — и огнь любови страстной Свободу заменил души… С тех пор он каждый день, с зарею, Из мрачной глубины лесов, При громком лае серых псов, Перед красавицей младою, Чтоб приобресть ее любовь, Являлся с дикою козою Или со шкурами волков. Суров и горделив доныне, — Так наконец он ей сказал: «Дни одинокие в пустыне, Как сирота, я провождал. Любви томления приятны, И нега чувств души младой Ольбровну были непонятны… О Русла, друг прекрасный мой, Очей прелестных пылкий пламень Ты в душу мне перелила, Ты в сердце претворила камень, Ты мне почувствовать дала, Ты воскресила мою младость…
Пушкин:
Тогда близ нашего селенья, Как милый цвет уединенья, Жила Наина. Меж подруг Она гремела красотою. Однажды утренней порою Свои стада на темный луг Я гнал, волынку надувая; Передо мной шумел поток. Одна красавица младая На берегу плела венок. Меня влекла моя судьбина… Ах, витязь, то была Наина! Я к ней — и пламень роковой За дерзкий взор мне был наградой, И я любовь узнал душой С ее небесною отрадой, С ее мучительной тоской.
Однако набросок Рылеева — не оригинальное сочинение, написанное специально в подражание пушкинскому, не поэма «из скандинавского быта», а перевод вставного отрывка из первой песни поэмы Эвариста-Дезирэ Парни «Иснель и Аслега». Правда, русский поэт увеличил по сравнению с французским оригиналом количество строф, ввел эпитеты и метафоры, отсутствующие в подлиннике; и все-таки это — поэтический перевод из Парни, местами дословный (ср. стр. 32—34):
Pendant neuf mois sur des rives lointaines Il promena son glaive destructeur;
84
De l’Océan les orageuses plaines Ne firent point reculer sa valeur. Les rois tremblans l’invitaient à des fêtes, Et leurs trésors achetaient son oubli. De ses succès son cœur enorgueilli Se proposait de nouvelles conquêtes. Un soir assis près d’un chêne enflammé, Il me disait: «Ami de mon enfance, Roi de concerts, pourquoi ce long silence? Parle, retrace à mon esprit charmé Des temps passés les nobles aventures. Le nom d’Olbrown que tout bas tu murmures Pour mon oreille est encore nouveau…» — «A quelques pas s’elève son tombeau, Lui dis je; il dort auprès de son amie. Dans les forêtes qui couvrent la Scanie Par son adresse Olbrown était connu: Vingt fois de l’ours à ses pieds abattu Son bras nerveux sut dompter la furie; Frappé par lui d’un trait inattendu, Vingt fois des cieux l’aigle tomba sans vie. Dans l’âge heureux d’aimer et d’être aimé, Aus doux désirs son cœur long-temps fermé De la beauté méconnaissait l’empire: Il voit Rusla, se détourne, et soupire. A ses genoux il portait chaque jour. D’un sanglier la hure menaçante, Et d’un chevreuil la dépouille sanglante. Il méritait, il obtint son amour. A mes regards tu seras toujours belle, Répète Olbrown; un sourire charmant Dit que Rusla sera toujours fidèle; Et pour sceller cette union nouvelle, Chaucun toucha la pierre du Serment, etc.
Девять месяцев на чуждых берегах он разил врагов своим мечом; бурные просторы океана не умеряли его отваги. Властители, трепеща, приглашали его на празднества и сокровищами покупали его снисхождение. Возгордившись своими успехами, он мечтал о новых походах. Однажды вечером, сидя у горящего дуба, он мне сказал: «Друг моего детства, король певцов, чем вызвано столь долгое молчание? Говори, очаруй мою душу повестью о славных делах минувших дней. Имя Ольбровна, которое ты постоянно шепчешь, мне совершенно незнакомо». — «Его могила в нескольких шагах отсюда, — сказал я ему, — он там, подле своей подруги. В лесах, покрывающих Сканию, он был знаменит своею ловкостью: его могучая длань укротила свирепость пятнадцати медведей, павших к его ногам. Пораженные его неотразимой стрелой, пятнадцать орлов пали с небес бездыханными. Когда он вошел в счастливую пору любви, его сердце, столь долго не знавшее сладких утех, не ведало власти красоты: но вот он видит Руслу, отворачивается, вздыхает.
85
Каждый день он повергал к ее коленям ужасную голову вепря или окрававленную тушу косули. Он был достоин любви, и он добился ее. Ты всегда будешь очаровывать мой взор, повторяет Ольбровн; прелестной улыбкой Русла говорит, что всегда будет хранить верность и для того, чтобы скрепить этот новый союз, каждый поклялся на
священном камне».
Отсюда следует, что Рылеев писал свой отрывок на полях не столько «Руслана и Людмилы», сколько «Иснеля и Аслеги», и эта поэма послужила одним из основных литературных источников исповеди Финна. Можно предположить, что Рылеев, перелагая Парни, не столько имитировал Пушкина, сколько соперничал с ним в поэтической верности духу классического для преромантиков французского оригинала. Если это так, то Рылеев не понял пушкинского замысла: Пушкин не подражал Парни, а преодолевал его.
Парни, наиболее известный в России поэт французского преромантизма, «считался в свое время обновителем интимной лирики», а его элегии «были своего рода типом, определяющим общие свойства жанра». Русский читатель первой четверти XIX в. был хорошо знаком с большой лирико-эпической поэмой Парни «Иснель и Аслега», написанной «в подражание скандинавам» (Isnel et Asléga, poème en quatre chants, imité du Scandinaves, 1802; последний вариант: 1808). Литературные источники этой поэмы — Оссиан и скальдические поэмы, известные по книге Малле, прежде всего «Песнь Гаральда Смелого», а также «Смертная песнь Рагнара Лодброка» (Аслега — героиня «Саги о Рагнаре Лодброке», пересказанной Малле). Отрывки из «Иснеля и Аслеги» переводили Батюшков, Денис Давыдов, Орест Сомов, А. Крылов, А. Прожин, В. И. Туманский и многие другие. Сама тема, затронутая Парни, волновала русских поэтов, для которых древний Север являлся не только краем экзотики, но и колыбелью отечественной истории. Подражателей Парни влекло искусство французского поэта сочетать эпический сюжет с лирическим самовыражением, историческую тему — с раскрытием мира интимных переживаний, анакреонтические настроения — с элегическими, эротические мотивы — с оссиановскими пейзажными зарисовками, избегать фальши в выражении нежных чувств, писать простым и благородным поэтическим языком.
Для юного Пушкина поэмы Парни служили «наиболее значительным и несомненным образцом»; поэт хорошо знал «Иснеля и Аслегу» уже в Лицее и впоследствии «долго был пленен Парни-элегиком». Воздействие Парни на Пушкина ощущается в его лицейских «подражаниях Оссиану». В стихотворении «Кольна» мы читаем:
Источник быстрой Каломоны, Бегущий к дальним берегам,
86
Я зрю, твои взмущенны волны Потоком мутным по скалам При блеске звезд ночных сверкают Сквозь дремлющий, пустынный лес, Шумят и корни орошают Сплетенных в темный кров древес. Твой мшистый брег любила Кольна, Когда по небу тень лилась; Ты зрел, когда в любви невольна, Здесь другу Кольна отдалась.
Исследователи поверили Пушкину на слово, что это действительно целиком подражание Оссиану. С. А. Венгеров писал в своем комментарии к этому стихотворению: «Сличение пушкинского подражания с источником этого подражания (т. е. с Оссианом, — Д. Ш.) <…
> показывает нам, что юный поэт, несомненно, внес тут немало и индивидуального <…> военные подробности значительно сокращены, а любовные столь же значительно растянуты. Появились даже такие детали, как например стихи 11—12:
Ты зрел, когда в любви невольна, Здесь другу Кольна отдалась,
которых совсем нет в оригинале». Мысль С. А. Венгерова развил Б. В. Томашевский, который утверждал, что «пейзаж, не имеющий точного соответствия ни у Оссиана, ни у его французских подражателей <…> мы встречаем в „Кольне“ 1814 года. <…> Мы видим, что весь пейзаж принадлежит Пушкину, который придал ему и характерный колорит».
Но «точного соответствия» и не может быть в вольном поэтическом переложении у такого поэта, как Пушкин. Довольно близкое же соответствие цитированным пушкинским строкам содержится в той части «Иснеля и Аслеги», где говорится о любви Ольбровна и Руслы:
La nuit descend; l’étoile pacifique S’assied au nord sur un lit de frimas. Prés d’un terrent qui roule avec fracas Ses flots bourbeux, s’élève un toit rustique; De vieux sapins le couvrent de leurs bras. C’est là qu’Olbrown a dirigé ses pas.
Сошла ночь; северная звезда опустилась на ледяное ложе. У потока, который с грохотом катит свои мутные воды, виднеется сельская кровля. Старые сосны осеняют ее своими ветвями. Сюда-то и направлял свои
стопы Ольбровн.
А дальше рассказывается о том, как, «в любви невольна», Русла отдалась другу:
Trois fois il frappe, et trois fois il écoute Si l’on répond à ses voeux empressés. <…> La porte cède à la main qui la touche.
87
De la pudeur il ménagea les droits. Rusla honteuse a voilé son visage; Elle rougit de ses premiers désirs, Elle rougit de ses premiers plaisirs, etc.
Он трижды стучит, и трижды прислушивается, не последует ли ответ на его мольбы. … Дверь поддается руке, которая слегка ее касается. Он пощадил права стыдливости; застенчиво Русла закрыла свое лицо. Первые желания и первые радости заставляют ее краснеть, и т. д.
И эти стихи Парни С. А. Венгеров привел в комментарии к другому оссиановскому стихотворению Пушкина — «Осгару», как «особенно близко подходящие если и не по содержанию, то по наиболее характерным подробностям». Что же касается «Эвлеги», то по отношению к ней «Оссиан уже совершенно ни при чем»: это перевод отрывка из четвертой песни «Иснеля и Аслеги». Таким образом, одним из главных литературных источников всех оссианических стихотворений Пушкина послужила поэма Парни «Иснель и Аслега».
Образ Финна вобрал в себя черты всех героев поэмы Парни: и Иснеля, и Ольбровна, и Эгиля. Финн, не имея возможности соединиться с возлюбленной, задумывает оставить родные берега, со своей дружиной переплыть море и «бранной славой заслужить» право на любовь.
И все мне дико, мрачно стало: Родная куща, тень дубров, Веселы игры пастухов — Ничто тоски не утешало. В уныньи сердце сохло, вяло. И наконец задумал я Оставить финские поля; Морей неверные пучины С дружиной братской переплыть, И бранной славой заслужить Вниманье гордое Наины. Я вызвал смелых рыбаков Искать опасностей и злата. Впервые тихий край отцов Услышал бранный звук булата И шум немирных челноков. Я вдаль уплыл, надежды полный, С толпой бесстрашных земляков…
Сходная судьба постигает Иснеля, бедного пастуха, который не имеет права взять в жены дочь вождя Аслегу:
«Chère Asléga, fille de la beauté, Ton regard seul à mon coeur attristé Rend le bonheur; ta présance est ma vie: Mais ton amant sera-t-il ton époux? Malgré nos voeux, quel obstacle entre nous! Dans un palais où brille la richesse Ton heureux père élève ta jeunesse…
88
Du, mien, hélas! je n’eus pour héritage Qu’ un toit de chaume, un glaive, et son courage» <…> Isnel s’éloigne: autour de lui se range De ses guerriers la brillante phalange; Tous à grands cris appellent combats, Et leurs regards promettent le trépas. Leur jeune chef à leur tête se place, Et par ces mots enflamme leur audace: «Braves amis, nos pères ont vaincu; De leur acier l’éclair a disparu: Brillons comme eux au milieu du carnage. Leur front jamais n’a connu la pâleur; Jamais la mort n’étonna leur courage; Ils l’insutaient par un souris moqueur. <…> Marchons, amis; le brave doit me suivre».
«Дорогая Аслега, дева красоты, лишь твой взор осчастливливает мое опечаленное сердце; быть с тобой — для меня значит жить: но станет ли твой возлюбленный твоим супругом? Сколь многое препятствует нашим желаниям! Во дворце, сияющем роскошью, твой счастливый отец взлелеял твою юность… А я, увы, только и получил в наследство, что соломенную кровлю, меч да свою отвагу…» Иснель удаляется: вокруг него собирается блестящая фаланга его соратников; все с громкими кликами рвутся в битвы, а их взоры говорят о презрении к смерти. Юный вождь возглавляет их ряды и воспламеняет их энтузиазм такими словами: «Друзья, храбрецы, наши отцы одерживали победы; но молнии их мечей потухли; подобно им, блеснем мечами в гуще сеч. Они никогда не бледнели от страха, ужас смерти никогда не лишал их смелости; они с насмешливой улыбкой презрели смерть… Вперед, друзья; кто храбр, пойдет за мною».
В походах сердце Финна, «полное Наиной»,
Под шумом битвы и пиров, Томилось тайною кручиной, Искало финских берегов. Пора домой, сказал я, други! Повесим праздные кольчуги Под сенью хижины родной. Сказал — и весла зашумели: И, страх оставя за собой, В залив отчизны дорогой Мы с гордой радостью влетели.
То же происходит с Иснелем, после того как он выслушал рассказ скальда Эгиля о Русле и Ольбровне:
Isnel écoute, et son ame se trouble; A chaque mot sa tristesse redouble;
89
Mille pensers tourmentaient son esprit. <…> Le lendemain il dit à ses héros: «Amis, la gloire a suivi nos drapeaux, Et nos succès passent notre espérance: Arrêtons-nous, et que notre imprudence Ne risque point le fruit de nos travaux». Avec transport les guerriers obéissent Au champ natal ils rettournent joyeux: Et, déposant l’acier victorieux, Devant l’amour leurs courages fléchissent.
Иснель слушает, и душу его охватывает тревога; с каждым словом его печаль возрастает; множество мыслей терзают его ум… На следующий день он говорит своим героям: «Друзья, наши знамена осенены славой, и мы преуспели выше всяких ожиданий; остановимся, не будем опрометчиво рисковать плодами наших побед». Воины с восторгом повиновались, радостно вернулись к родным полям, и, сняв победоносную броню, забыли о воинской отваге ради любви.
С. А. Венгеров писал, комментируя пушкинского «Осгара»: «…у Парни „Belle Rusla“ <…> образец <…> верности, у Пушкина — все основано на измене и мести». Действительно, и Аслега, и Русла добродетельны, а Наина — воплощение самовлюбленности и коварства. Но и у Парни есть героиня, Аи́на (Aïna), о которой тщетно вздыхает главный рассказчик, Эгиль, несчастливый в любви. Финн завершает свою исповедь горьким сетованием:
К чему рассказывать, мой сын, Чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один, один, Душой уснув, в дверях могилы, Я помню горесть, и порой, Как о минувшем мысль родится, По бороде моей седой Слеза тяжелая катится.
Сетования Эгиля обрамляют всю первую песнь поэмы:
Braves guerriers, qui poursuivez la gloire, Pourquoi d’Egill troubler le long repos, Et l’inviter à des hymnes nouveaux? Des temps passés le scalde est la mémoire; Mais tous les ans je succombe, et ma voix Ressemble au vent qui survit à l’orage; Son souffle à peine incline le feuillage, Et son murmure expire au fond des bois. <…> Chère Aïna, des belles la plus belle, A mes regrets je suis encore fidèle, Et ton image est toujours dans mon coeur.
90
Храбрые воины, добывающие славу, к чему нарушать давний покой Эгиля и просить его петь новые гимны? Время пощадило память скальда; но годы постепенно сломили меня, и голос мой подобен ветерку, пережившему бурю; дыхание его едва колышет листву, а его шепот замирает в чаще лесов. … Дорогая Аина, красавица из красавиц, я все еще
верен своей грусти, и твой образ постоянно в моем сердце
Не отсюда ли имя пушкинской героини — Наина?
Разумеется, Пушкин не подражал Парни, а вольно варьировал заданную им тему. По словам П. Морозова, пушкинское «отношение к французскому поэту было вполне свободно: Пушкин не был рожден копировщиком, точный перевод был не сроден его натуре…». Он «схватывал только общий, руководящий мотив чуждого подлинника и затем придавал ему своеобразную обработку». В 1820-х годах отношение русского читателя к Парни резко изменилось: на фоне успехов отечественной литературы, после знакомства с Байроном и Вальтер-Скоттом, поэма «Иснель и Аслега» в целом не могла не казаться русским романтикам псевдоисторической, излишне чувствительной, условно-абстрактной по содержанию; она производила «неопределенное впечатление, какое всегда получается при смешении в одном произведении разнородных стилей». Оставляя для себя «нежного» Парни-лирика, Пушкин отказывался от Парни ложноэпического; об этом сказано в песни пятой «Руслана и Людмилы»:
Я не Гомер: в стихах высоких Он может воспевать один Обеды греческих дружин, И звон, и пену чаш глубоких. Милее, по следам Парни, Мне славить лирою небрежной И наготу в ночной тени, И поцелуй любови нежной.
91
Воспевание рыцарских похождений, любовных свиданий у источника, звездной ночи, элегические воздыхания эпического старца — «общие места» преромантической поэзии; но у Парни эти общие места получили откристаллизовавшееся, обобщенно-типическое выражение, они как бы созрели для иронического пародирования и последующего их преодоления. Это и сделал Пушкин в поэме «Руслан и Людмила».
Д. Шарыпкин
Стиль и характер поэмы
Поразив современников (не все отнеслись к ней с однозначным восторгом, шум критиков не утихал до 1830 года), поэма и сейчас восторгает богатством фантазии и легкого содержания. Картины, встающие перед читателем, ярки и полны живости и блеска. Это и описание свадебного пира у князя Владимира, рисующее обычаи древней Руси, и трагическое убийство спящего Руслана, и смерть живой головы. Великолепен бой киевлян и Руслана в шестой песне. Используя поэтические достижения предшественников (Жуковского, Дмитриева и Батюшкова), автор положил начало слиянию различных стилей языка, создавая новый литературный язык.
В этой статье будут раскрыты образы Финна и Наины и дана характеристика Людмилы из поэмы «Руслан и Людмила».